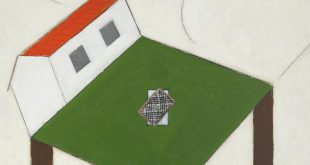«Творческая личность и художественное поведение. Мифология перекрестков».
Статья к каталогу выставки «Друг народа. Валентин Воробьёв. Живопись. Графика. Из коллекции Михаила Алшибая» – РГГУ, Москва – 2014.
Говорить о Валентине Воробьеве означает говорить об истории искусства, о ее иконологических истоках, о культуре ритуала и художественном поведении.
Переживая реалии модернизма, возвращаясь к культурной памяти, мифологии знака, жесту шамана, к семиотике раннего христианства, художник фактически создает палимпсест из проникающих друг в друга слоев, проступаний текста и образа, контура и силуэта, отстаивая чистоту принципов художественного языка и реализуя диалоги с реликтовыми формами искусства.
Его образы всегда опираются на традицию, на импровизацию в каноне, прослеживая путь художественной мысли от конкретных событий до превращения их в универсальную космогонию.

Ранний художественный мир Валентина Воробьева ветвится как живой организм и вместе с тем кристаллизуется, он открывает свое внутреннее измерение, заставляя вспомнить «Мнимости в геометрии» о. Павла Флоренского и принцип дополнительного элемента К. Малевича.
Пространства художника оживают в зеркальных отражениях, они двоятся, множатся, при этом возвращаясь всегда к биполярности, к конфликту, завершаясь согласием противоположных начал – эмоционального, интуитивного и осознанно выстроенного, мужского и женского, непреднамеренного и телеологического.
Эта драматургия, обретающая катастрофические смыслы и значения, развивается в своих глубинных векторах, заставляя зрителя втягиваться в пространство изображения, погружаться в его многослойность и порой отождествляться с ним.

Фактически, в своих композициях художник разыгрывает мистерии, где персонажами становятся художественные стили. Он варьирует возможности «р1ау» и «дате», соединяя абсолютно свободный и непреднамеренный жест с «игрой по правилам», разрушая готовые клише и имиджи и оперируя цитатами из культурного наследия и личного опыта.
Кажется, что художник отслаивает поверхность художественного события, его бесконечно малую пленку, собирающую в себе напряжение внутреннего, и освобождает ее в мерцаниях собственной автономности и самодостаточности.
Именно в этот момент в его художественный поступок включается рефлексия, отделяющая означаемое от означающего, превращая непрерывность, ее эволюционизм в мгновенную вспышку, в волновой взрыв, заменяя мнимости и транслируя их оплотненной массой пластической точки.

Рассматривая искусство как процесс, художник фиксирует фазы всех ее состояний, цикличности, дискретной остановки, пределы и разрывы. Паузы и пустоты в этой стратегии обретают возвышенное «цветное» молчание, приоткрывая не только свой парадоксальный облик, но и звуковые измерения, речь.
Разговоры в московских мастерских, в насыщенных предметностью коммунальных кухнях, требующих предельного освобождения в формах артистической игры, естественно переходят из жизни в образы его искусства, окрашивая визуальностью полифонию Бахтина и психодрамы обэриутов.
Топография передвижения внутри произведения художника эволюционирует от плоскости к трехмерности, ее структура начинает походить на реальный лабиринт, не только мыслимый, но и тактильный, обуславливающий парадокс присутствия.
Пространственный метод, диалоги прямой и обратной перспектив, моделирующие внутреннюю иконологию визуальной конструкции, заставляют рассматривать каждый артефакт Валентина Воробьева как органическую структуру, переживающую катастрофу, в результате которой она обретает иные смыслы и перспективы.

Руинируясь, превращая травмы в целебную повязку, она обретает актуальность программы, закодированной как послание в инструментальности европейских энергий и российских реликтовых систем.
Её генетический код, мутированный постмодернистской историей, образами «общества спектакля», актуализируются новейшими слоями реальности, ее непосредственностью и вместе с тем рефлексией, ее выбросами наружу «подземного» мусора цивилизации, ее скрытых свалок и одновременно анализом этого процесса.
Информация, вводимая художественной коммуникацией, является для Валентина Воробьева свободной формой творческого высказывания, органическим волеизъявлением художника. Она рассчитана как возможная провокация и поэтому способна преобразовываться в любые информационные объемы на ее выходе.
Эти перекодированные композиции-объекты располагаются в уникальной зоне – между собственно искусством и самой жизнью; они образуют целостную ткань, где сплетаются утопия и предельная конкретность, ирония и откровение, артефакт и человеческое послание.

Но Валентин Воробьев не был бы самим собой, если бы не фиксировал в своих проектах наличие диалога между полярными системами — рождение насыщенной реальности и одновременно ее инфляцию.
Обращение к избыточности отходов нашей цивилизации, настойчивая передача ее множественности приводит художника к философии необарокко, к указанию на появление новой чувственности, живущей неутоленностью своих желаний и существующей в непрерывном производстве информационных ценностей, где встречаются враги и друзья нового этноса, мутированного народа, адаптированного к равновесию в условиях его отсутствия.
 Cultobzor.ru Обзор художественных выставок в Москве – выставки, события, художники и изобразительное искусство, галереи и музеи
Cultobzor.ru Обзор художественных выставок в Москве – выставки, события, художники и изобразительное искусство, галереи и музеи